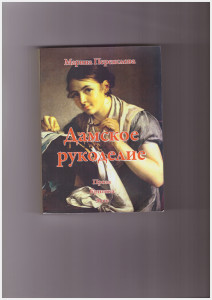Размышления над книгой
Хвала провидению, что неизменно – вновь и вновь – являются значимые объекты, благодаря которым возможно непринужденное выражение навеянных мыслей, а также и накопившихся до соприкосновения с объектом. В данном случае «объект» – это новая книга московской писательницы Марины Переясловой. Название книги – «Дамское рукоделие» (М., «Традиция», 2014), на первый взгляд, намеренно занимательное, несколько пикантное, тем более, что оно значится на фоне репродукции довольно известной картины создателя ставшего каноническим пушкинским портретом В.Тропинина «Кружевница». Так и видится, что наши женщины стоят в очереди за этой книгой, хотя, к вящему сожалению, такое невозможно: тираж книги весьма мал (к великому прискорбию для нынешних писателей! ), а у нас в стране только молодых женщин – миллионы. А хотелось бы, чтобы они стояли и покупали, потому что, имея в своей обыденности такое обогащающее чтение, они бы больше пополнили собственный практический и духовный кладезь, чем щедрыми советами по самым практическим «рукоделиям». На поверку, название книги – от добродушного «лукавого», вернее, по уточнению самой писательницы, «для самообороны» от снобистского неверия в отношении ценности женского самовыражения. Впрочем, в подобной самообороне нет никакой надобности. Книга – основательный итог многолетнего литературного труда, кстати, явившийся в свет к так нежданному почтенному «летию» автора. Отсюда наверняка вызывающая уважение разножанровость – здесь и проза – повести и рассказы, и эссе, и критика – под видом рецензий исследование творчества немалого числа мастеров художественного слова. И все пронизано стихотворными строками – «персонажными» и авторскими.
Примечательная во многих отношениях личность, кому посвящено знаковое для книги эссе «Дожить до тебя», – это широко известный российский поэт, который в одной своей поэме о писательском дачном поселке Переделкино зимней поры тепло обрисовал впечатляющий добрую читательскую натуру момент:
Лучше, все отложив, с Маринкою–
поэтессой из Жигулей–
между сосен бродить тропинкою
мимо озера, дач, полей.
Тогдашняя «Маринка – поэтесса из Жигулей» и есть нынешняя Марина Вячеславовна. Так что ее поэтическая участь авторитетно удостоверена. Следовательно, появление стихотворных строк «авторских» вполне естественно.
В своей предыдущей книге «О самом главном», представляющей «беседы с пассионариями России» – временем признанными деятелями отечественной культуры – писателями, художниками, артистами, режиссерами, а также государственными и общественными мужами, Марина так определила собственное писательское устремление: «Самая большая ценность в России – это, без сомнения, ее люди, беседы с которыми наполняют душу верой в неизбежность торжества Божественной справедливости и в новое возвышение нашего Отечества».
Деловой и эмоциональный настрой новой книги исповедальной тональности иной, а именно: пристальный взор на всеобъемлющее явление, определяющее конкретное бытование человека в поднебесной, подверженного всем страстям, – это личная судьба, формируемая жизненными обстоятельствами, внутренне вызревшей, стойкой – заветной – целью и неугасаемой волей. И еще чем-то непостижным, неподвластным волевым усилиям, насущным желаниям. И вовсе не обязательна необходимость литературоведческим «утюгом» разглаживать художественную ткань, ее рубцы всех произведений, входящих в «Дамское рукоделие». Сюжеты, содержательные коллизии, повествовательное движение – все жизненно, достоверно, убедительно, как говорится, писано с натуры. Просто надо читать и чем внимательней, тем весомее основа для понимания глубинной сути художественного замысла. Как правило, все персонажные «я» сливаются с авторским «я». Думается, что в этом сказываются нити традиций всей русской литературы. Первой поэтической любовью Марины был Сергей Есенин: «… я знала наизусть почти все его стихи, проводила школьные вечера в его память и читала о нем массу литературы, стараясь не упустить ни одной из подробностей его биографии… Знавшая его только по стихотворным строчкам и портретам, жестоко и искренне, до сердечной боли, страдала из-за того, что опоздала родиться и не была его современницей…». В связи с этим интересно обратиться к солидному изданию «В мире Есенина», выпущенному еще к 90-летию классика отечественной поэзии. Среди многих статей маститых поэтов, критиков, ученых имеется приметное высказывание Евгения Евтушенко, даже важное заключение: «Есть только одна культура, которая всеобща. Это культура искренности… Вся поэзия Есенина – это огромная поэма о нем самом, Сергее Есенине».
Напрашивается очевидная параллель: книга Марины Переясловой – это повествование о ней самой. От природы исполненная романтичности, но обремененная непростыми комплексами, мешавшими реализации романтических устремлений, молодая провинциалка со страстным упованием на лучший жребий была обречена пусть и на старательную и все же посредственную, малорадостную службу в заштатных культучреждениях и писание сердечной лирики «в шкатулку». И лишь со временем обрела неуклонно-поступательное шествие к желанной «высоте» – не только публиковаться в периодике, издавать свои книги, но и войти в сферу литературной «элиты», стать ее частью, что весьма впечатлительно! А что за этим стоит? Вроде управляемая походка, напряженная работа ума и сердца, но неостановимо накатывающей чередой – крушение надежд и упадок душевных сил – и снова восставание почти из пепла.
В книге приведены строки из первого поэтического сборника метафоричного «рукоделия»:
В камень, что мое придавит тело,
Вбейте строчки, дерзки и тихи:
«Женщина, которая хотела
Написать с ч а с т л и в ы е стихи».
Значит, она на всем страждущем пути стремилась к обязательному проявлению того или иного личного благодеяния. Однако достижение лишь одной желанной «высоты» – это еще не все, то есть еще не суть жизненной полноты – счастья. Для женщины оно, счастье, не может быть полным без «рыцаря на белом коне». Чуткая, ранимая натура терпела, мятежилась, терзалась в атмосфере несоответствия благих желаний и сторонней, утилитарной действительности. И вот наконец пытка ожиданием обрывается: «…Это случилось как снежный обвал в горах, как безумие, горячка, бред. Земля качнулась и резко ушла из-под ног. Страсть взорвала нас, как два вулкана, и в ее лаве теперь сгораем мы оба. И не разобрать, какой волной нас швырнуло друг к другу: были ли мы просто изголодавшиеся, истосковавшиеся по любви мужчина и женщина или же два битые жизнью человека, бросившиеся друг к другу за спасением, или два обожженных холодом одиночества существа увидели друг в друге сияние согревающего огня…»
То, что так озаряюще случилось, он назвал «Праздником преображения». А она написала, по собственной оценке, «…простенькие, но захлебывающиеся искренним счастьем строчки»:
Коленька-колокольчик, колокол-Николай,
Геолог, поэт и псаломщик, мне подаривший рай…
«Праздник преображения» и подаренный «рай» – явления сверхблагостные, означающие полное единение, чего должно только желать долгое-долгое нескончание. Способность, талант так любить – особое душевное качество, даваемое, к сожалению, далеко не каждому. «Приняв в замужестве твою фамилию – П е р е я с л о в а, – я приняла вместе с ней и н о в ы й код своей судьбы, и теперь я все больше и больше становлюсь П е р е я в ш е й с л о в о», иначе принявшей, как«рай», слово и слившейся с ним.
В свое время, а точнее 99 лет назад записная петербургская «салонщица» Зинаида Гиппиус, как к ней ни относись (к слову, хотя бы учесть подозрительное «сетование» еще двадцатилетнего Сергея Есенина на снисходительное – «и снисходительность дворянства»! – неприятие с ее стороны его деревенских валенок ) в «Автобиографической заметке» отметила чуть ли не завещательно: «По совести, должна сказать, что никогда не отрицала я влияния Мережковского на меня уж потому, что сознательно шла этому влиянию навстречу, – но совершенно так же, как он шел навстречу моему. Из этой встречности нередко рождалось новое, мысль или понимание, которые уже не принадлежали ни ему, ни мне, может быть, – «нам».
Если из этого исключить слово «Мережковского», то к чему можно логически «перетечь»? Верно, к тому, что отмечала сама Марина, объясняя основу ее ощущения радости бытия, ее жизненного оптимизма: «Я знаю, что все это происходит оттого, что я имею в жизни г л а в н о е – человека, с которым я пребываю в полном согласии, по своей воле, и с которым у нас все в резонанс: и наше отношение к творчеству, и наше родство с Отчизной, и любовь к русской культуре…»
Опять параллели? Но здесь следует установить явное отличие. Если первая «параллельница» по духу ее поэзии («И в прахе душном, в дыме пыльном, К последней гибели спеша, Напрасно в ужасе бессильном Оковы жизни рвет душа»./ – страдалица бытия, то Марине выпало исповедовать противоположное: «Раньше стихи были для меня средством избавления от боли… С приходом в мою жизнь тебя акценты бытия сместились, моя Муза стала светлой и радостной…»
Со временем они переехали в Москву и вскоре стали видными участниками литературной жизни столицы, российского культурного пространства, даже дальнего и ближнего зарубежья: он – секретарем Союза писателей России (лишь одна из его служебных и общественных ипостасей), она – главой пресс-службы такой авторитетнейшей литературной инстанции, как Международное Сообщество Писательских Союзов – не только издает свои книги, но и сполна проявляет себя непосредственным организатором большого литературного процесса. Отныне она все делает под желанным и благотворным влиянием того, кто снял с ее плеч «вечный рюкзак забот». Как церковный колокол одухотворяет прихожан, словно оповещая о надлежащих помыслах и действиях, так явившийся во плоти и символичный Колокол-Николай одаривает ее вдохновением на продолжение добрых деяний.
На первое восприятие прочитанного, как модно ныне выражаться, текста наслаивается настороженность: вот так распахнуть душу – открыто, безоглядно, как есть, – от громкого приветствия новизны до благоговейного оповещения о тонких, даже интимных явлениях, что должно быть ведомо лишь одному-двум существам,— при всем этом может замаячить очевидно рискованная перспектива – недолго перейти грань, за которой пылится некогда модная самодельная «альбомность» с засушенными луговыми цветками, что усиливается репродукцией из В.Тропинина на обложке книги. Но он же, классик русского изобразительного искусства, и спасает «положение», вроде предвосхищает его, помогая верному и полному восприятию повествования явной ценительницы Василия Андреевича Тропинина. Ежели, допустим, один из истоков ищущей души «оттуда», это плодотворное, великое помоществование в подъеме одухотворения. (Желающие могут сходить в музей Тропинина на Большой Ордынке). Академический мастер портрета, по энциклопедическим сведениям, в своих работах стремился к живой, непринужденной характеристике изображаемых лиц, создал тип жанрового, в смысле бытового, несколько идеализированного показа человека в его богатой сущности. Идеализация – не греховное деяние. Она диктуема страстным желанием непременного постижения идеальных реалий.
И снова параллели… Снова традиция. Можно предположить, что намеренно избрано и такое издательство для выпуска книги – «Традиция».
Как выше упоминалось, в первой большой книге основное писательское устремление направлено на показ «самой большой ценности в России – ее людей», тем самым «нового возвышения нашего Отечества». Исповедальность рассматриваемой книги иными путями, но снова приводит к главному: «Россия вступила в эпоху Водолея» – астрологическое положение, определяющее особую жизненосную миссию России в грядущем мире. Художественная мысль закольцована. Притом закольцованность вышла о б р у ч а л ь н о й. А обручальность требует объяснения: как сие осмыслить? Некоторые конкретные жизненные явления она, «переявшая слово», приверженная и астрологии как разделяемому иными или оспариваемому другими мировосприятию, склонна объяснять чем-то загадочным, отличным от обычного бытийного проявления, вплоть до мистики – некоей составляющей реальности, недоступной разуму. И в самом деле, как объяснить, например, такое: «…снится мне сон о Москве: я стою и смотрю на новый строящийся район, захожу в подъезд, где идут последние отделочные работы, и говорю тебе: «Я хочу здесь жить», а наутро после этого сна, только я успела рассказать тебе его содержание, раздается телефонный звонок, и нам предлагают хороший вариант обмена на квартиру в Москве на Марьинском бульваре. И вот я уже обласкиваю глазами карту столицы, находя и смакуя на вкус названия улиц и районов, перекликающихся с какими-то моими личными ассоциациями: М а р ь и н о, почти созвучное моему имени М а р и н а; Л ю б л и н о, ласкающее слух отзвуком уже живущей в моей душе нашей совместной книги «Спасемся л ю б о в ь ю», улицы К р а с н о д о н с к а я, Д о н е ц к а я, все напоминающие о твоей родной Украине и Донецкой области, где ты вырос. Да и хозяина квартиры, с которым мы меняемся, зовут не как-нибудь, а тоже Н и к о л а й».
Закоренелые материалисты по — обыкновению заявят: да это же простые житейские совпадения. И, однако, никуда не уклониться от мысли: да это же не «простые», это же – хоть как разводи руками – некая неведомая, надбытийная сила сотворяет подобные – и столько! – совпадения. Знаки «сверху» прослеживаются и в других проявлениях их раздельного и совместного жития: «Исторический для нас день – бракосочетание – пришелся на солнечное затмение, а события, происходящие в это время, трактуются астрологами как «неотвратимые, цементом схватывающиеся». После «исторического дня», как положено, следует свадебное путешествие, которое осияло и «твой родной город» – донбассовский Красноармейск, где на «стареньком темном вокзальчике я прижалась к тебе и сказала, что я в и ж у, как начинает восходить звезда твоего успеха и совсем скоро она наберет высоту и будет гореть все ярче и ярче». А суть еще в том, что это не просто «родной город», а именно тот – один из пяти одноименных советских, основанный еще в российскую старину, но так похожий своей индустриальной значимостью на Маринину девическую «вотчину» – нефтехимический Новокуйбышевск, – в котором действует (испрашивается извинение за резкий переход на «технический» лексикон) завод огнеупоров – специфических строительных изделий, выдерживающих температуру свыше двух тысяч градусов, – для печей металлургии и иных целей. И является уяснение, что немного у нас литераторов, обладающих такой, как у олицетворенного Колокола, «огнеупорностью». И насколько бы выглядела пресной, скучной наша жизнь без чудес, чем бы (или кем) они ни были творимы.
Как обычно, следует – итак… Через тягостные ожидания, искания, физические и душевные муки-терзания наконец-то наступает просветление, вершится преображение – обретение нового, желанного духовного облика, устремленного к пусть и относительному, но совершенству, слияние с некогда грезившимся идеалом, и все-таки с каждым облегченным читательским вздохом подступает тревога: чур-чур, а вдруг… И в этом тоже наличествует проникновенное чувствование автора (и теперь уж можно прямо сказать) – героини книги: «Вот пишу это и делается страшно: хорошо, если прочтет добрый человек и порадуется за нас, а вдруг прочитает злой, жаждущий все разрушить? У меня нет другого способа защиты, кроме как пожелать всем – и добрым, и злым – того же, чем владею сегодня я сама». Преображение предполагает заповедь: «Я верю, что рано или поздно вы тоже станете счастливыми, только вы с а м и поверьте в это». Такое возможно – женщина, сотворенная самой собою и, конечно, по ее уверованию, отмеченная небесами. И этим самым – что молвлено в данных размышлениях – она, одолевшая жизненное чистилище, все же написала с ч а с т л и в ы е стихи.
Евгений КОЛЕСНИКОВ,
поэт и прозаик,
заслуженный работник культуры России